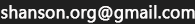
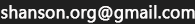
| Поиск по Шансон - Порталу >>> |
|
|
|||||||
| Легенды Одессы Как зарождалось одесское искусство |
 |
|
|
Опции темы |
|
#1
|
||||
|
||||
|
В дополнение к публикации
"ОДЕССКИЙ ФОЛЬКЛОР В АТМОСФЕРЕ ОДЕССКИХ ПЕСЕН" ОДЕССКИЙ ФОЛЬКЛОР В АТМОСФЕРЕ РАССКАЗОВ ПРО ОДЕССУ Гроздь из четырех новелл («Король», «Как это делалось в Одессе», «Отец», «Любка Казак»)1, входящих в «Одесские рассказы», воспринимается как экзотические зарисовки быта одесских евреев, развлекающие читателей пряным ароматом одесского жаргона, экстравагантными выходками героев и детективными фабулами. В 30-е годы Бабель написал рассказы «Конец богадельни» и «Фроим Грач», прямо связанные с «Одесскими рассказами». Как соотносится Одесса «Одесских рассказов» с Одессой реальной? «Одесса — очень скверный город. Это всем известно». Это первые строки автобиографических заметок Бабеля, которые он озаглавил — «Мои листки». «Вместо “большая разница” там говорят “две большие разницы”, и еще — “тудою-сюдою”. Мне же кажется, что можно много сказать хорошего об этом значительном и очаровательнейшем городе Российской империи». И далее — в том же величальном духе: «Подумайте: город, в котором легко жить, в котором ясно жить. Половину населения его составляют евреи, а евреи — это народ, который несколько очень простых вещей очень хорошо затвердил. Первое: они женятся для того, чтобы не быть одинокими. Второе: любят для того, чтобы жить в веках. Третье: копят деньги для того, чтобы иметь дома и дарить женам каракулевые жакеты. Четвертое: чадолюбивы, потому что это же очень хорошо и нужно — любить своих детей». Это, по существу, некое замещение десяти заповедей — фамильярно-одомашненых. Эти заповеди испокон веку служили духовным оплотом гонимого народа, и в Одессе, они, видимо, действовали вполне результативно. Не случайно же Бабель констатирует: «Бедных евреев из Одессы очень пугают губернаторы и циркуляры, но сбить их с позиции нелегко, очень уж стародавняя позиция. В значительной степени их усилиями создалась та атмосфера легкости и ясности, которая окружает Одессу». Но каким образом сохраняется эта система духовного самосохранения (да и физического выживания) народа без ущерба для своих скрижалей в оскорбительных и унизительных условиях — «черта оседлости», процентная норма, погромы?.. И, главное, удается ли народу сберечь верность этим заповедям на самом деле? Четыре одесские новеллы образуют очень своеобразное единство, основа которого — Молдаванка. Молдаванка — это тот космос, в котором протекает жизнь всех персонажей «Одесских рассказов», где совершаются со-бытия их бытия. Реалии Молдаванки, одесской окраины, которая простирается от Старопортофранковской до Слободки-Романовки, — эти реалии проступают в ароматных названиях улиц: Госпитальная, Костецкая, Дальницкая, Степовая, Охотницкая, Балковская. Но вообще-то у Бабеля Молдаванка расширяется, захватывая всю Одессу целиком, с ее центральными улицами — Екатериниской, Большой Арнаутской и Софиевской, с могучим портом и дальнею Пересыпью. У Бабеля «молдаванским колоритом» окрашена вся Одесса, все одесское несет на себе печать того, что можно назвать «молдаванским менталитетом». Именно это — «молдаванский менталитет» — Бабель живописует и анализирует, стараясь постигнуть его суть, его светлые и темные стороны, его динамику. Облик Молдаванки, ее быт и нравы, ее типажи — это некое карнавальное воплощение духовного мира, духовной субстанции российского еврейства. Практическому знанию этих грязных, нищих, тесных закоулков Одессы Бабель противопоставляет феерически красочный, тетрализованный облик Молдаванки: «И вот Баська из Тульчина увидела жизнь в Молдаванке, щедрой нашей матери, жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неутомимости». Пиршество и роскошь антуража бабелевского художественного мира взамен грязи и нищеты реальной Молдаванки есть некий вызов: да, Молдаванка, — как там ни крути — это еще одна ипостась еврейского гетто, но это гетто не просит сострадания, его обитатели не нуждаются в снисходительной жалости. Они знают себе цену и осознают свое место в мироздании. Повествование в «Одесских рассказах» ведется в торжественно-библейском стиле. Уже в рассказе «Король» есть отсылка к Священной книге евреев: «Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток Торы, крошечная и горбатая». Подобным образом обычно звучат эпические сказания в исполнении профессиональных аэдов и рапсодов, собирателей и хранителей легендарной истории своих народов. В «Одесских рассказах» тоже есть свой рапсод — это Арье-Лейб. «Гордый еврей, живущий при покойниках» — так, без ложной скромности, аттестует он самого себя. В еврейской культуре кладбищенские нищие — это особая каста: юродивые и святые, шуты и плакальщики, назойливые попрошайки и мудрые философы — они вольно или невольно выступают хранителями вековых заветов — ведь, по меньшей мере, Кадиш они знают. Запев свой Арье-Лейб ведет в полном соответствии с эпическим каноном: «И вот я буду говорить, как говорил Г-сподь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Мойсейкой и Шимшоном из погребальной конторы...» Арье-Лейб — аэд «новой формации», он не повторяет «преданья старины глубокой», он рассказывает о том, что видел собственными глазами. Аэд-хроникер, репортер с кладбищенской стены. В «Одесских рассказах» кальки с идиш, украинизмы и элементарное пренебрежение русской граматикой образуют такие словесные кораллы, которые поражают своей гротесковой пышностью и какой-то грациозной нелепостью. Ну, кто только ни цитирует эти пассажи: «Об чем думает такой папаша? Об выпить хорошую рюмку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях и ни об чем больше...»; «Папаша, ...пусть вас не волнует этих глупостей»; «Слушайте, Король, я имею вам сказать пару слов»... Представленный в такой речевой оболочке, мир Молдаванки приобретает черты своеобразного эпического предания, где высокая патетика причудливо переплетается со снижающей карнавальностью. А в эпосе следует ожидать явления легендарных героев и их великих свершений. Ожидания сбываются... В этом экзотическом мире, среди мешанины скупщиков краденого, контрабандистов, содержателей притонов, мелких маклеров, кладбищенских нищих возвышаются носители высоких идеалов Молдаванки, ее гордость и слава, ее рыцари. Кто же они? Налетчики во главе со своим Робин Гудом, своим королем Беней Криком. Почему появились эти самые «рыцари» на Молдаванке, почему «молдаванский менталитет» превратил этих налетчиков в рыцарей? А потому, что тем, кто оскорблен любой формой унижения, — в данном случае планетарным изгоям, которыми являются евреи, опутанные, как колючей проволокой, изощренной системой государственных, конфессиональных, социальных запретов и табу, — ох как хочется видеть им в своей среде «рыцарей без страха и упрека»! Справедливых судей и храбрых защитников, у которых слово сразу подкрепляется делом. Мир Молдаванки, созданный на страницах «Одесских рассказов», конечно же, в целом, романтический мир. «И тут друзья Короля показали, что стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство». А какими фламандскими красками изображается сам Беня: «Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет». Или: «На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты». А вот так выглядят его друзья: «Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи обтягивали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури». Вот как они едут в публичный дом: «Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках, глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, завороченные в папиросную бумагу». Торжественно, на глазах у всей публики они следуют на культурное мероприятие. В этом пародийно-декоративном изображении налетчиков, в этих преувеличенных восторгах повествователя и в поклонении обитателей Молдаванки перед Беней Криком и его коллегами есть какая-то всеохватывающая этическая перевернутость. Почему же именно Беня удостоился звания Короля? Прежде всего, как и положено эпическому герою, Беня наделен в некотором роде сверхъестественными качествами. О его темпераменте говорится в самых возвышенных тонах. «И вот добился своего Беня Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над миром». Его ораторские способности высоко оценивает сам Фроим Грач — «крестный отец» Молдаванки: «Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь». И действительно, как артистически чувствителен Беня! «Мосье Тартаковский, — ответил ему Беня Крик тихим голосом, — вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом, но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы». А какая сила убедительности в его покаянном слове, обращенном к тете Песе, матери убитого приказчика Иосифа Мугинштейна: «...Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны Б-га не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера и гористый воздух и сплошные французы?..» А сколько социального пафоса в его прощальной речи на могиле Иосифа: «Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс». Повествователь подает слово Бени с почтительностью и восторгом. Но как же нелепо и смешно выглядит на фоне литературной речи это сочетание высокой экспрессии с сентиментальным лиризмом. *** Перейдем к описанию подвигов героя. * Первый подвиг Бени Крика (новелла «Король») — поджог полицейского участка — был знаком его самутверждения. Раз пристав сказал: «...Где есть государь император, там нет короля», — так Беня покажет, что Король таки есть! В России поджог полицейского участка или вообще любой ущерб, наносимый власти, всегда воспринимался не без одобрения: власть, а не властна! * А вот второй подвиг Бени (расссказ «Как это делалось в Одессе») — налет на Тартаковского — не так уж этически безупречен. «Попробуем его на Тартаковском, — решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение». Почему же покраснели даже видавшие виды негласные хозяева Одессы? А потому что, хоть Тартаковский далеко не ангел, однако на него уже совершали девять налетов. Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, — это грубый поступок. Беня Крик для того, чтобы быть принятым в сообщество рыцарей Молдаванки, преступил даже существующие у воров этические границы. А далее идет целый ряд этических провалов, парадоксально прикрываемых эстетическим величанием. При налете нечаянно убивают бедного Иосифа Мугинштейна, единственного сына у своей мамы. Дальше следует возмездие, которое совершается через новую кровь: за убитого приказчика налетчики кончили самого убийцу, Савку Буциса. * Третье деяние Бени Крика, описанное в рассказе «Отец», трудновато назвать подвигом. Но все-таки кое-что героическое есть в том, как долго он трудится в публичном доме с «обстоятельной Катюшей». А в особенности в том, что сразу же после этих упражнений он ведет деловые переговоры с Фроимом Грачом о женитьбе на его дочери. И если иметь в виду, что собой представляет эта Баська, дочь Фроима («женщина исполинского роста», «в ней было весу пять пудов и еще несколько фунтов», говорит она «оглушительным басом»), то иначе, как подвигом, согласие Бени на брак с нею назвать нельзя... В «Одесских рассказах» сплошь и рядом легендарное чадолюбие, культ семьи, нежное почитание родителей оборачиваются не только цинизмом, но и насилием над самыми святыми человеческими чувствами. Чего стоит сцена, когда Мендель Крик рассказывает, как его искалечили собственные сыновья, Беня и Левка. «Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика и удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это». За что презирает их Фроим Грач? За то, что они не могут преступить через этическое табу. За что же Беня Крик заслужил звание Короля? Выходит, как раз за то, что смог пре-ступить — ограбить ограбленного, убить человека, жениться по грубому расчету, побить собственного отца. Но «первый произнес слово “король” не кто иной, как «шепелявый Мойсейка» (абсолютно карнавальное замещение Моше, хранителя священных заповедей, который, согласно преданию, был косноязычен). Значит, самая высшая инстанция — Моше наизнанку — благословил подвиги Бени Крика. Автора «Одесских рассказов» более всего занимает именно этот процесс — процесс перевертывания этических норм, циничное попрание заветов, нанесенных на скрижали. Видимо, не случайно завершает цикл новелла «Любка Казак». Здесь уже нет ни Бени, ни повествования о его очередном подвиге. Зато есть сюжет о самом страшном преступлении, которое только может представить традиционная мораль евреев — сюжет о матери, которая пренеберегает своим материнским долгом. Еврейская мать, чья доходящая до безумия любовь давно стала легендарной, здесь «думает о своем сыне, как о прошлогоднем снеге». Женщина, в чьей природе заложено быть нежной и ласковой (ведь ее фамилия «Шнейвейс», то есть Белоснежка!), превратилась в грубую расхристанную бабу, у которой погоня за «профитом» полностью атрофировала материнское чувство. «Вы все хотите захватить себе, жадная Любка... — взывает старик Цудечкис, — а маленькое дитя ваше, такое дитя, как звездочка, должно захлянуть без молока». Все перевернуто с ног на голову. Этика сломана. Даже богобоязненность оборачивается кощунством в сцене, когда Беня велит отпевать вместе с бедным Иосифом Мугинштейном его убийцу, Савку Буциса. Теперь многочисленным участникам похоронного обряда становится ясно, что совершено еще одно кровавое преступление, а они поневоле замараны участием в этом деле. И торжественная, пышная панихида завершается паническим бегством: «И вот люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах, пешком». Это апокалиптическое бегство есть спонтанная и потому истинная этическая оценка людьми тех подвигов, которые совершил Беня Крик, герой эпоса Молдаванки. Этот итог не неожиданность, по меньшей мере — для Автора. Об обреченности той стратегии самоутверждения, которую избрал Беня Крик, было сделано предупреждение в самом начале как раз той новеллы, где рассказывалось о его возвышении. Напомним: Автор-слушатель просит эпического сказителя: «Реб Арье-Лейб... поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце». Можно полагать, что, задумывая свой цикл, Бабель намеревался завершить его историей гибели Бени Крика. Возможно, Бабель имел в виду ту участь, которая постигла Мишку Япончика, прототипа Бени Крика. Этой истории в «Одесских рассказах» нет. Зато есть рассказы «Конец богадельни» и «Фроим Грач». Они представляют собой завершение сюжета о Молдаванке и ее рыцарях. Богадельня при еврейском кладбище, где ютятся кладбищенские нищие, — это горькая квинтэссенция еврейской доли и средоточие народной мудрости. Мир этот рушится не только потому, что пришла советская власть в лице заведующего кладбищем Бройдина, а потому, что он истлел сам по себе. Потому, что в нем смещены великие заветы, записанные в Священных книгах, потому, что скрижали перевернуты с ног на голову. Поэтому-то Бройдиным и удается с такой легкостью смести старую богадельню, как ненужный хлам. А заодно и выбросить из жизни ее обитателей — юродивых и святых, мудрецов и аэдов. А рассказ «Фроим Грач» — это уже эпилог истории ордена рыцарей Молдаванки. Не гибелью Бени Крика, а гибелью Фроима Грача завершается весь цикл. И это не случайно. Если мы вспомним, что именно к Фроиму обратился Беня с просьбой принять его в свое дело, что Фроим давал Бене рекомендацию на совете, то можно догадываться о том, что скрывалось за словами Арье-Лейба о Граче: «...Тогда уже смотрел на мир одним глазом и был тем, что он есть». Но только в последнем рассказе об этом говорится открытым текстом: «Одноглазый Фроим, а не Беня был истинным главой сорока тысяч одесских воров». Но когда Фроим пришел в Чека и попробовал поговорить с новой властью на привычном ему языке: «Отпусти моих ребят, хозяин, скажи свою цену», — на том языке, который понимали и принимали не только Тартаковские и Эйхбаумы, но околоточные надзиратели и приставы, — с ним никто говорить не стал. Его просто расстреляли без суда и следствия, в считанные минуты. И все. Объяснение дается вполне советское: «...Зачем нужен этот человек в будущем обществе?» — спрашивает председатель ЧК. Автор уточняет — «приехавший из Москвы», то есть не знающий историю Одессы, не знакомый с ее легендами и ее героями. Но ведь и следователь Боровой, которому Фроим Грач по-своему дорог как легендарная личность, как достопримечательность Одессы, тоже говорит: «Наверное, не нужен». Это и есть тот ужасный конец, который ожидал Беню Крика и весь орден налетчиков Молдаванки. По Бабелю, мир этот и его герои обрекли себя на такой конец самим образом своей жизни. Кодекс антиморали, кодекс беззастенчивого глумления над вековечными устоями, которому они следовали с таким шикарным цинизмом, не мог не привести к саморазрушению Карнавальность «Одесских рассказов» — это карнавальность «жуткого веселья». Есть такое еврейское выражение, которому аналогично русское: «Так смешно, что аж плакать хочется». Именно таков эстетический пафос «Одесских рассказов». Почему же при всем при том. Беня Крик и его налетчики вызывают симпатию и у сказителя, Арье-Лейба, и у его слушателя? И не только у них: даже большевик Боровой называет Фроима Грача «грандиозным парнем» и не может скрыть своей печали, когда того расстреляли. А почему у русского народа сложено так много красивых песен, сказаний и легенд о Стеньке Разине, Емельяне Пугачеве, Кудеяре-атамане, Сагайдачных и Дорошенках? Ведь они же разбойники, воры, насильники, убийцы, погромщики. За каждым из них — реки крови безвинных людей. А их величают «народными заступниками». Читая «Одесские рассказы», кажется, начинаешь понимать, в чем тут дело. Униженные и оскорбленные восполняют ущербность своего реального существования виртуальной вседозволенностью. А в пре-ступлении границ есть какое-то извращенное наслаждение и уродливый восторг. Конечно же, все это — проявления этической вывихнутости, нравственной порчи, поражающей тех, кто влачит рабское существование. До тех пор, пока будет суще-ствовать «черта оседлости» не только на географической карте, но и в умах людей, все святое, доброе, человечное, все достойное и гордое будет либо жестоко уничтожаться, либо фарсово искривляться. Другого не дано. __________________________________________________ Наум ЛЕЙДЕРМАН (Россия) Из доклада на III конференции «Одесса и еврейская цивилизация». -------------------------------------------------------------------------------- 1 — Другие рассказы, которые издатели порой включают в этот цикл только на том основании, что их действие происходит в Одессе или рядом, в Николаеве («История моей голубятни», «Ты проморгал, капитан!», «Конец богадельни», «Карл-Янкель» и др.), к «Одесским рассказам не относятся — это другие персонажи, другие конфликты, другой стиль |